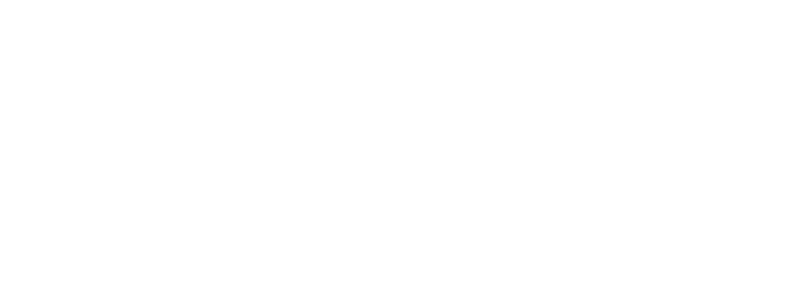
Воспоминания С. Г. Петровского (о Загородье)
Загородье в шестидесятых годах прошлого столетия
В шестидесятых годах прошлого столетия Загородье было глухим медвежьим углом. Это был лесной, редко населённый край, далеко отстоящий даже от таких небольших захудалых провинциальных городов как Бежецк и Вышний Волочек. От Загородья до Бежецка 60 верст, а до Волочка 100 верст. Не проходили через край и бойкие торговые пути. Большая дорога из Бежецка в Волочек шла южнее Загородья. До Тверецко — Мстинской водной системы было около 75—80 верст. Река Молога, перерезывающая край своим верхним плесом, играла лишь роль сплавной реки. Только весной, перед Николо-Теребенской ярмаркой, проплывали из Бежецка люди с разными товарами.
Население было редкое. По Х-ой ревизии приходилось жителей на 1 кв. версту в Раевской вол. 12,7, Столоповской — 12,9 Рыбинской — 11,0 и в Заручьевсксй — 8,8. Селения были небольшие — 15—16 дворов, поэтому деревни в 60—80 дворов считались крупными. Разбросаны деревни были редко, и на 1 селение приходилось от 90 до 128 кв. верст. При таком редком населении значительная часть площади была покрыта лесом, создававшим основной фон ландшафта. Куда бы ни вышли — к околице ли деревни, или в поле, или на луг — чищобу — везде горизонт замыкался лесом. Леса были большие, вековые, и часто тянулись сплошным массивом более чем на 10 верст. Ряд деревень, вроде Хабарщины и Фомина, были островками среди дремуче го леса.
Загородье тоже было сжато лесами. С южной стороны почти к самому ручью подходил большой сосновый бор. За рекой пойма, за исключением небольшой прибрежной полосы, была покрыта смешанным лесом. По рекам росли столетние мохнатые, с раскидистыми сучьями ели. Низкие, потные места были покрыты лиственными лесами, главным образом, толстыми, более чем в обхват, осинами. Много было корявой, нестройной, разных возрастов ольхи. Среди лесной чащи пробивался стройный клён. На лесных полянах росли дубы, свидетели того, что когда-то реки были покрыты лесом несколько иного состава. По соседству с дубами гнездились раскидистые кусты орешника. Рябина и черемуха пробивались где только можно. К воде лесных озерок жались калина и черная смородина. Местами лесные заросли переплетались диким хмелем. Получалась непролазная чаща. За поймой на песчаных холмах лесная картина была иная. Стройные, как свечи, сосны тянулись к небу своими верхушками, внизу был мягкий мшистый ковер, и после угрюмой заросли поймы сосновый бор казался светлым и просторным.
Около села с запада и севера была старая дедовская пашня, разбитая на традиционные 3 поля, но полевой простор тянулся недалеко. В какой-нибудь версте, а то, может быть, и ближе, начинались перелески из молодой березовой и ольховой поросли. 3а ними уже шли новые роспаши, чаще всего — нивы, т.е. пашни по вырубке, без навозного удобрения, рассчитанные на использование почвенных богатств, накопленных самой природой во время многолетнего отдыха. За этими нивами и перелесками разных возрастов, выросших на запущенных и истощенных нивах, начинался дремучий казенный лес.
Население было карельское, пришедшее сюда более двухсот лет тому назад и уже забывшее о своём переселении, считавшее себя исконным обитателем края. Кормились главным образом сельским хозяйством. Земли было достаточно, можно было расширить запашку, лишь бы были рабочие руки да необходимый основной и оборотный капитал в виде лошади с сохой и запаса семян. Система хозяйства была экстенсивная, рассчитанная на использование естественных природных богатств почвы. На окраинах устраивались нивы, дававшие хлеб и корм в виде яровой соломы и мякины. Благодаря этому была возможность держать на дворе лишнюю скотину, тем самым увеличивать количество навоза, вывозившегося на ближайшие к селению полосы. Запашка велась большая, поэтому в среднем крестьянском дворе хватало работы для пары лошадей.
Места, где устраивались нивы, начинались недалеко от деревни. Ванькины нивы, Аленинагушка, Курганы, Житенка, Гуккино — все это входило в район нив; даже в самом названии пустошей сохранилось указание на это — «Ванькины нивы», «Алексинагушка», «Коненагушка» (по-русски — Алексеева нива, Кононова нива). До землеустройства шестидесятых годов загородские крестьяне со своими нивами заезжали верст за 5 от селения, работая под Фоминым и на Чичевке, Гонге, под Тумпестами на Бору. Только что прошедшее землеустройство положило предел этим заездам, была указана граница, за которой начинался казенный лес, и куда уже не могли «ходить ни топор, ни соха». Но это ограничение, очень существенно указывавшее на необходимость отказа от экстенсивного хозяйства и через 15—20 лет вместе с системой выкупных платежей приведшее к тяжелому кризису, еще не успело оказать своего отрицательного влияния. Загородский кареляк еще был убежден, что произведенное отмежевание чересчур, большого значения иметь не будет, так как «землю в кошельке не унесешь», поэтому о перестройке системы полеводства не думал, а лишь только сократил район нив.
Из местных промыслов было распространено смолокурение. Дегтярные заводы были на берегу реки в конце села к Мокшицам. В настоящее время это место уже занято сараями и гумнами, и с трудом можно заметить бугры и ямы, оставшиеся молчаливыми свидетелями исчезнувшего промысла.
Население было редкое. По Х-ой ревизии приходилось жителей на 1 кв. версту в Раевской вол. 12,7, Столоповской — 12,9 Рыбинской — 11,0 и в Заручьевсксй — 8,8. Селения были небольшие — 15—16 дворов, поэтому деревни в 60—80 дворов считались крупными. Разбросаны деревни были редко, и на 1 селение приходилось от 90 до 128 кв. верст. При таком редком населении значительная часть площади была покрыта лесом, создававшим основной фон ландшафта. Куда бы ни вышли — к околице ли деревни, или в поле, или на луг — чищобу — везде горизонт замыкался лесом. Леса были большие, вековые, и часто тянулись сплошным массивом более чем на 10 верст. Ряд деревень, вроде Хабарщины и Фомина, были островками среди дремуче го леса.
Загородье тоже было сжато лесами. С южной стороны почти к самому ручью подходил большой сосновый бор. За рекой пойма, за исключением небольшой прибрежной полосы, была покрыта смешанным лесом. По рекам росли столетние мохнатые, с раскидистыми сучьями ели. Низкие, потные места были покрыты лиственными лесами, главным образом, толстыми, более чем в обхват, осинами. Много было корявой, нестройной, разных возрастов ольхи. Среди лесной чащи пробивался стройный клён. На лесных полянах росли дубы, свидетели того, что когда-то реки были покрыты лесом несколько иного состава. По соседству с дубами гнездились раскидистые кусты орешника. Рябина и черемуха пробивались где только можно. К воде лесных озерок жались калина и черная смородина. Местами лесные заросли переплетались диким хмелем. Получалась непролазная чаща. За поймой на песчаных холмах лесная картина была иная. Стройные, как свечи, сосны тянулись к небу своими верхушками, внизу был мягкий мшистый ковер, и после угрюмой заросли поймы сосновый бор казался светлым и просторным.
Около села с запада и севера была старая дедовская пашня, разбитая на традиционные 3 поля, но полевой простор тянулся недалеко. В какой-нибудь версте, а то, может быть, и ближе, начинались перелески из молодой березовой и ольховой поросли. 3а ними уже шли новые роспаши, чаще всего — нивы, т.е. пашни по вырубке, без навозного удобрения, рассчитанные на использование почвенных богатств, накопленных самой природой во время многолетнего отдыха. За этими нивами и перелесками разных возрастов, выросших на запущенных и истощенных нивах, начинался дремучий казенный лес.
Население было карельское, пришедшее сюда более двухсот лет тому назад и уже забывшее о своём переселении, считавшее себя исконным обитателем края. Кормились главным образом сельским хозяйством. Земли было достаточно, можно было расширить запашку, лишь бы были рабочие руки да необходимый основной и оборотный капитал в виде лошади с сохой и запаса семян. Система хозяйства была экстенсивная, рассчитанная на использование естественных природных богатств почвы. На окраинах устраивались нивы, дававшие хлеб и корм в виде яровой соломы и мякины. Благодаря этому была возможность держать на дворе лишнюю скотину, тем самым увеличивать количество навоза, вывозившегося на ближайшие к селению полосы. Запашка велась большая, поэтому в среднем крестьянском дворе хватало работы для пары лошадей.
Места, где устраивались нивы, начинались недалеко от деревни. Ванькины нивы, Аленинагушка, Курганы, Житенка, Гуккино — все это входило в район нив; даже в самом названии пустошей сохранилось указание на это — «Ванькины нивы», «Алексинагушка», «Коненагушка» (по-русски — Алексеева нива, Кононова нива). До землеустройства шестидесятых годов загородские крестьяне со своими нивами заезжали верст за 5 от селения, работая под Фоминым и на Чичевке, Гонге, под Тумпестами на Бору. Только что прошедшее землеустройство положило предел этим заездам, была указана граница, за которой начинался казенный лес, и куда уже не могли «ходить ни топор, ни соха». Но это ограничение, очень существенно указывавшее на необходимость отказа от экстенсивного хозяйства и через 15—20 лет вместе с системой выкупных платежей приведшее к тяжелому кризису, еще не успело оказать своего отрицательного влияния. Загородский кареляк еще был убежден, что произведенное отмежевание чересчур, большого значения иметь не будет, так как «землю в кошельке не унесешь», поэтому о перестройке системы полеводства не думал, а лишь только сократил район нив.
Из местных промыслов было распространено смолокурение. Дегтярные заводы были на берегу реки в конце села к Мокшицам. В настоящее время это место уже занято сараями и гумнами, и с трудом можно заметить бугры и ямы, оставшиеся молчаливыми свидетелями исчезнувшего промысла.
Пожар 1884 года
Проснулся от сильного стука железом по железу и вижу, что высокий молодой мужик бьет обухом по верхней створке лежанки, очевидно, хочет выломить створку из печки. К мужику подбегает мой старший брат Коля и останавливает его.
Постель пустая. Все мои братья уже встали. Дверь открыта, открыты и окна. В новенькой пусто, куда-то вынесена вся обстановка. Вскакиваю, одеваюсь и выбегаю в сени. Там также пусто. Дверь в кладовую, обычно запертая на замок, открыта. Бегу на улицу, и сразу же передо мной открывается картина пожара. Ряд изб в огне. Огненные языки вырываются из окон, лижут стены, прорываются сквозь крышу. Клубы дыма, то черные, то седые далеко уходят в небо. Шум, треск.
Помню, приковала меня картина мужика на крыше избы рядом с горевшим домом. Вот он берет ведра с водой, часть выливает на себя, остальное расплескивает на крыше. Пустое ведро по веревке спускается вниз, наполняется водой и снова тянется вверх, Это церковный сторож Никита Павлов — старик, николаевский солдат — организовал защиту своей избы. Она у него крыта тесом, и это облегчает защиту.
Изба эта была второй от нашего дома и стояла на том месте, где теперь стоит домик Анны Павловны. Никите удалось отстоять свою избу, и пожар в эту сторону дальше не двигался.
Все наше скромное имущество было вынесено на луг к ручью за огород дьячка. Только что перед этим в Петров день траву скосили и убрали. Вытащенное имущество лежало в куче в большом беспорядке.
В кладовой, обычно занятой сундуками с бельем, развешанными на особых шестах овчинными шубами нашей многочисленной семьи, мешками с валяными сапогами, совершенно было пусто. Это мне очень понравилось с братом Арсей. В пустой кладовой звуки получали особый оттенок. Кому-то подвернулся под руки небольшой поддужный колокольчик. Передали его нам. У нас сейчас же явилось желание лихо прокатиться с колокольчиком. Я стал лошадью, колокольчик взял в руки. Арся вместо вожжей ухватился за конец моей рубахи, и мы весело поскакали мимо амбара вдоль изгороди туда, где лежали вынесенные вещи. Все уже вытащили, да и пожар стал затихать, поэтому все стали спокойнее. Было уже около 9 часов утра. Нужно было, и подумать о завтраке. Тут же на лугу, недалеко от вещей, около кустов развели самовар. Дело было 2-го июля по старому стилю. День был чудесный, самовар жаркий, настоящий сенокосный. У меня осталось самое приятное воспоминание от чаепития на отрытом воздухе на скошенном лугу. По всей вероятности, с удовольствием пили чай и взрослые. Беда прошла, а потрудиться пришлось немало, поэтому можно было и отдохнуть.
Как добро водворялось на место, ничего не помню. Не помню и картины пепелища, а, несомненно, вместе с отцом был в селе на пожарище. Обычно мы, маленькие ребята, сопровождали отца в его неслужебных прогулках. После мне рассказывали, что пожар начался в избушке у одной бобылки, жившей на задворках приречного посада. Сельчане в этот день сенокосничали в пожне, и еще до восхода солнца все взрослые и трудоспособные ушли на сенокос. Загорелось, кажется, оттого, что был худой стояк у трубы. Крыша была соломенная. Погода стояла жаркая, сухая. В высохшую солому попала искра, и солома вспыхнула. Стройка была старая, улица узкая, промежутки между домами были маленькие, избы были крыты главным образом соломой. Одним словом все содействовало тому, чтобы огонь очень быстро забрал силу. Сгорели оба посада нашего конца от избы Никиты — сторожа до рва. В приречном посаде осталось две избы: одна Асена — на том месте, где стояла лавка бывшего кооператива, другая — Степеньки Слепого, находившаяся за Асеновой избой. Тлела изба Авдотьи Фокиной, стоящая около болота в одну линию с амбарами.
Очевидно, ветер был несильный и тянул на реку. При ветре «север» и «северо-восток» выгорел бы и тот конец, не спас бы и ров. Если бы ветер дул на юг, то Никите не отстоять бы своей избы, и после него загорелась бы и изба Егора Васильева, стоявшая на месте избы Марии Вёрткой. С избы Егора Васильева перебросило б на наш дом. Северная сторона крыши дома, направленная к селу, была крыта соломой, соломой же был покрыт широкий двор, примыкавший к дому. Защиты в виде берез ещё не было. Самая большая в настоящее время берёза (береза с железным обручем) в то время была маленькой берёзкой, только что поднявшейся над изгородью.
Постель пустая. Все мои братья уже встали. Дверь открыта, открыты и окна. В новенькой пусто, куда-то вынесена вся обстановка. Вскакиваю, одеваюсь и выбегаю в сени. Там также пусто. Дверь в кладовую, обычно запертая на замок, открыта. Бегу на улицу, и сразу же передо мной открывается картина пожара. Ряд изб в огне. Огненные языки вырываются из окон, лижут стены, прорываются сквозь крышу. Клубы дыма, то черные, то седые далеко уходят в небо. Шум, треск.
Помню, приковала меня картина мужика на крыше избы рядом с горевшим домом. Вот он берет ведра с водой, часть выливает на себя, остальное расплескивает на крыше. Пустое ведро по веревке спускается вниз, наполняется водой и снова тянется вверх, Это церковный сторож Никита Павлов — старик, николаевский солдат — организовал защиту своей избы. Она у него крыта тесом, и это облегчает защиту.
Изба эта была второй от нашего дома и стояла на том месте, где теперь стоит домик Анны Павловны. Никите удалось отстоять свою избу, и пожар в эту сторону дальше не двигался.
Все наше скромное имущество было вынесено на луг к ручью за огород дьячка. Только что перед этим в Петров день траву скосили и убрали. Вытащенное имущество лежало в куче в большом беспорядке.
В кладовой, обычно занятой сундуками с бельем, развешанными на особых шестах овчинными шубами нашей многочисленной семьи, мешками с валяными сапогами, совершенно было пусто. Это мне очень понравилось с братом Арсей. В пустой кладовой звуки получали особый оттенок. Кому-то подвернулся под руки небольшой поддужный колокольчик. Передали его нам. У нас сейчас же явилось желание лихо прокатиться с колокольчиком. Я стал лошадью, колокольчик взял в руки. Арся вместо вожжей ухватился за конец моей рубахи, и мы весело поскакали мимо амбара вдоль изгороди туда, где лежали вынесенные вещи. Все уже вытащили, да и пожар стал затихать, поэтому все стали спокойнее. Было уже около 9 часов утра. Нужно было, и подумать о завтраке. Тут же на лугу, недалеко от вещей, около кустов развели самовар. Дело было 2-го июля по старому стилю. День был чудесный, самовар жаркий, настоящий сенокосный. У меня осталось самое приятное воспоминание от чаепития на отрытом воздухе на скошенном лугу. По всей вероятности, с удовольствием пили чай и взрослые. Беда прошла, а потрудиться пришлось немало, поэтому можно было и отдохнуть.
Как добро водворялось на место, ничего не помню. Не помню и картины пепелища, а, несомненно, вместе с отцом был в селе на пожарище. Обычно мы, маленькие ребята, сопровождали отца в его неслужебных прогулках. После мне рассказывали, что пожар начался в избушке у одной бобылки, жившей на задворках приречного посада. Сельчане в этот день сенокосничали в пожне, и еще до восхода солнца все взрослые и трудоспособные ушли на сенокос. Загорелось, кажется, оттого, что был худой стояк у трубы. Крыша была соломенная. Погода стояла жаркая, сухая. В высохшую солому попала искра, и солома вспыхнула. Стройка была старая, улица узкая, промежутки между домами были маленькие, избы были крыты главным образом соломой. Одним словом все содействовало тому, чтобы огонь очень быстро забрал силу. Сгорели оба посада нашего конца от избы Никиты — сторожа до рва. В приречном посаде осталось две избы: одна Асена — на том месте, где стояла лавка бывшего кооператива, другая — Степеньки Слепого, находившаяся за Асеновой избой. Тлела изба Авдотьи Фокиной, стоящая около болота в одну линию с амбарами.
Очевидно, ветер был несильный и тянул на реку. При ветре «север» и «северо-восток» выгорел бы и тот конец, не спас бы и ров. Если бы ветер дул на юг, то Никите не отстоять бы своей избы, и после него загорелась бы и изба Егора Васильева, стоявшая на месте избы Марии Вёрткой. С избы Егора Васильева перебросило б на наш дом. Северная сторона крыши дома, направленная к селу, была крыта соломой, соломой же был покрыт широкий двор, примыкавший к дому. Защиты в виде берез ещё не было. Самая большая в настоящее время берёза (береза с железным обручем) в то время была маленькой берёзкой, только что поднявшейся над изгородью.
Село до пожара
По моим теперешним подсчетам, основанным на списке домохозяев 1886 года, выгорело больше 30 домов, в том числе 28 дворов крестьян, занимавшихся сельским хозяйством. Сколько выгорело бобыльских дворов, подсчету не поддается.
Улица была очень узкая. Избы приречного посада стояли примерно так же, как и теперь, но зато противоположный посад шел по прямой линии от места среди села к спуску с горы около дома Николая Александрова. Вся теперешняя улица-лужайка, засаженная деревьями, была занята избами и дворами. Там же, где теперь стоят избы, были огороды. Понятно, что при такой ширине улицы весной и осенью была непролазная грязь.
Избы были старинные, из толстого леса. У более исправных крестьян было по две избы. Тип избы был несколько иной, чем теперь. Сруб рубился высокий; внизу устраивалось подполье такой высоты, что в нем можно было стоять, ходить, поэтому в самой избе было не высоко. На улицу прорубалось 3 окна, рамы были волоковые, в наиболее старых избах открывающаяся часть поднималась кверху. До князька палуба связывалась рублеными бревнами. В перед избы крыша выступала навесом настолько большим, что под окном могла встать телега и во время прямого дождя остаться не замоченной. Очень много изб была покрыто соломой, часть — тесом; некоторые, особенно надворные постройки, были покрыты дранью — гонтом. Лучинка-дранка в то время кровельным материалом не употреблялась. Некоторые избы были черные. Так, курная изба была у Захара Антонова.
Не знаю, по чьей инициативе: своей ли собственной, волостного ли начальства или земского страхового агентства, село решило расширить улицу. Заинтересованность была общая, поэтому начинание прошло гладко. По всей вероятности, больше было споров из-за мест, и тут, конечно, более сильные постарались захватить места получше, но до меня не дошло никаких отражений этой борьбы.
Улица была очень узкая. Избы приречного посада стояли примерно так же, как и теперь, но зато противоположный посад шел по прямой линии от места среди села к спуску с горы около дома Николая Александрова. Вся теперешняя улица-лужайка, засаженная деревьями, была занята избами и дворами. Там же, где теперь стоят избы, были огороды. Понятно, что при такой ширине улицы весной и осенью была непролазная грязь.
Избы были старинные, из толстого леса. У более исправных крестьян было по две избы. Тип избы был несколько иной, чем теперь. Сруб рубился высокий; внизу устраивалось подполье такой высоты, что в нем можно было стоять, ходить, поэтому в самой избе было не высоко. На улицу прорубалось 3 окна, рамы были волоковые, в наиболее старых избах открывающаяся часть поднималась кверху. До князька палуба связывалась рублеными бревнами. В перед избы крыша выступала навесом настолько большим, что под окном могла встать телега и во время прямого дождя остаться не замоченной. Очень много изб была покрыто соломой, часть — тесом; некоторые, особенно надворные постройки, были покрыты дранью — гонтом. Лучинка-дранка в то время кровельным материалом не употреблялась. Некоторые избы были черные. Так, курная изба была у Захара Антонова.
Не знаю, по чьей инициативе: своей ли собственной, волостного ли начальства или земского страхового агентства, село решило расширить улицу. Заинтересованность была общая, поэтому начинание прошло гладко. По всей вероятности, больше было споров из-за мест, и тут, конечно, более сильные постарались захватить места получше, но до меня не дошло никаких отражений этой борьбы.
Отрывочные воспоминания от лета 1884 г.
От лета 1884 г., когда мне было 3 года, сохранился в памяти еще только один случай. Очевидно, дело было вскоре после пожара, так как еще сенокосничали. У нас на улице под окнами было развалено сено, привезенное не то с чищобы, не то из зада луга, где много было пней, кочек и кустов. В селе колодцы погорели, и соседи ходили за водой на наш колодец. Мы, ребята, возились около сена. У колодца Иван, сын Василия Павлова, доставал воду. Вот он надел ведра на коромысло, поднял на плечо и направился домой. Вдруг слышим тревожный крик: «Змея, змея!» Оказывается, обогнув угол новенькой, Иван увидел, что дорогу переползает большая черная змея. На тревожный крик сбежался народ. Недалеко были мои старшие братья. Кто-то был в сапогах, у кого-то оказался кол. Наступили на змею и тут же её убили.
Поездка к дедушке
В феврале 1885 г. отец с матерью решили побывать в Талдоме у моего дедушки, отца матери, священника, жившего в большом торговом селе Талдоме по тогдашнему административному делению Калязинского уезда. Савеловской железной дороги еще не было, не было железной дороги и на Кашин. Поэтому проехать в Талдом из Загородья зимой можно было только по Николаевской (Октябрьской) жел. дор. до ст. Завидово, а оттуда на лошадях.
Поездка по этому маршруту обошлась бы довольно дорого. Тариф был высоким, к тому же прямых билетов не выдавали. Поэтому на билеты на нашу семью потребовалась бы больше 10 руб. в одну сторону. Затем довольно дорого пришлось бы заплатить ямщику за перегон от Завидова до Талдома. Бюджет отца был очень скромен, каждая копейка была на учете, поэтому решено было ехать на лошадях. Помимо сокращения расходов, это давало возможность побывать в Ченцах — на родине отца, и в Цавцине — у брата отца, и в Медведицком — у старшей сестры отца. Лошадь у нас была одна. Пускаться в такое далекое путешествие на одной лошади нельзя, поэтому сговорились с замельским крестьянином Ильей Петровым, что он будет кучером и для пары даст свою лошадь. Наш Чалка должен был идти в корню, а лошадь Ильи — в пристяжке. Илья был молодой, умный мужик. Хозяйство у них было крепкое — с устоями, поэтому можно было поручить попечению и нашу лошадь.
Маршрут был такой: Загородье, Бежецк, Цавцино, Ченцы, Медведицкое, Квашенки, Талдом — всего около 230 верст.
Поехали: отец мать, два моих брата постарше меня и я. Сестра Нюта, которой только что исполнился год, осталась дома на попечении работницы Марии и Фимы. Выехали, очевидно, в первое масленичное воскресенье в середине дня после службы. Масленица была ранняя и стояла настоящая зимняя погода.
От этой поездки у меня осталась немного впечатлений. Хорошо сохранилась в памяти картина зимнего пейзажа. Белое поле, освещенное солнцем, вдали темный лес. По узкой зимней дороге бежит наша пара, звенит колокольчик, скрипят сани. Илья сидит на облучке и изредка пощелкивает своим длинным кнутом. Погода морозная, но мы одеты тепло и нам не холодно. Один раз, как будто бы на перегоне из Юркина (исток Остречины, вблизи села Белое, от Белого в 5 км), вечером, когда сумерки совсем сгустились, видели волка, бежавшего по опушке леса. Хорошо запомнилась картина поляны с лесом на горизонте. 35 лет спустя, зимой, в феврале ехал вечером по той же дороге и вот в одном месте, выехав из оврага на поляну, вспомнил картину из раннего детства, и показалось, что это как раз и есть та поляна, где мы видели волка.
Из остановок смутно вспоминается остановка в Цавцине у дяди. Большая комната, отделенная от спальни тесовой перегородкой. Через дверь видна изразцовая лежанка. На ней сидит дядя, одетый в ситцевую рубашку навыпуск из-под застегнутого наглухо жилета. Изразцовую печь я видел впервые и белые гладкие плитки, украшенные синими цветами, произвели на меня большое впечатление.
В переднем углу на столе, покрытом чистой скатертью, собран чай. Входит Илья и, останавливаясь около порога, околачивает рукавицами валенки, очищает от сосулек заиндевевшую русую бородку, а потом начинает развязывать кушак. Задержался он на дворе, так как нужно было убрать лошадей. На родине отца в Ченцах ночевали у сестры отца, бывшей замужем за дьяконом. Наша Загородская обстановка била небогатая, и все-таки от дома в Ченцах у меня осталось впечатление бедности и недостатка. Мне доселе кажется, что дом Шавровых — это простая крестьянская изба со скамейками и как будто бы даже с полатями. Талдомский дедушка жил иначе. Там был дом с рядом комнат, с крашеными полами, с большими окнами с занавесками. Самого дедушку помню смутно. Он был болен, и нас, детей, к нему не пускали.
По дороге туда и обратно проезжали через Бежецк, но города и его жизни я не заметил. Помню только, как на обратном пути останавливались на Постоялой улице около магазина Галуновых и нам вынесли уже приготовленные покупки. Двухэтажный дом Галуновых показался мне очень большим.
На обратном пути в Ченцах Илья, по просьбе отца нарубил сучьев красной вербы и привязал их на запятках саней. В Загородье красной вербы не было, а отцу она нравилась, должно быть, по воспоминаниям детства. Чтобы развести её и был нарублен пучок сучьев и перевезен более чем за полтораста верст. Из посаженных весной сучьев пошел один. Так и была разведена в Загородье красная верба.
Поездка по этому маршруту обошлась бы довольно дорого. Тариф был высоким, к тому же прямых билетов не выдавали. Поэтому на билеты на нашу семью потребовалась бы больше 10 руб. в одну сторону. Затем довольно дорого пришлось бы заплатить ямщику за перегон от Завидова до Талдома. Бюджет отца был очень скромен, каждая копейка была на учете, поэтому решено было ехать на лошадях. Помимо сокращения расходов, это давало возможность побывать в Ченцах — на родине отца, и в Цавцине — у брата отца, и в Медведицком — у старшей сестры отца. Лошадь у нас была одна. Пускаться в такое далекое путешествие на одной лошади нельзя, поэтому сговорились с замельским крестьянином Ильей Петровым, что он будет кучером и для пары даст свою лошадь. Наш Чалка должен был идти в корню, а лошадь Ильи — в пристяжке. Илья был молодой, умный мужик. Хозяйство у них было крепкое — с устоями, поэтому можно было поручить попечению и нашу лошадь.
Маршрут был такой: Загородье, Бежецк, Цавцино, Ченцы, Медведицкое, Квашенки, Талдом — всего около 230 верст.
Поехали: отец мать, два моих брата постарше меня и я. Сестра Нюта, которой только что исполнился год, осталась дома на попечении работницы Марии и Фимы. Выехали, очевидно, в первое масленичное воскресенье в середине дня после службы. Масленица была ранняя и стояла настоящая зимняя погода.
От этой поездки у меня осталась немного впечатлений. Хорошо сохранилась в памяти картина зимнего пейзажа. Белое поле, освещенное солнцем, вдали темный лес. По узкой зимней дороге бежит наша пара, звенит колокольчик, скрипят сани. Илья сидит на облучке и изредка пощелкивает своим длинным кнутом. Погода морозная, но мы одеты тепло и нам не холодно. Один раз, как будто бы на перегоне из Юркина (исток Остречины, вблизи села Белое, от Белого в 5 км), вечером, когда сумерки совсем сгустились, видели волка, бежавшего по опушке леса. Хорошо запомнилась картина поляны с лесом на горизонте. 35 лет спустя, зимой, в феврале ехал вечером по той же дороге и вот в одном месте, выехав из оврага на поляну, вспомнил картину из раннего детства, и показалось, что это как раз и есть та поляна, где мы видели волка.
Из остановок смутно вспоминается остановка в Цавцине у дяди. Большая комната, отделенная от спальни тесовой перегородкой. Через дверь видна изразцовая лежанка. На ней сидит дядя, одетый в ситцевую рубашку навыпуск из-под застегнутого наглухо жилета. Изразцовую печь я видел впервые и белые гладкие плитки, украшенные синими цветами, произвели на меня большое впечатление.
В переднем углу на столе, покрытом чистой скатертью, собран чай. Входит Илья и, останавливаясь около порога, околачивает рукавицами валенки, очищает от сосулек заиндевевшую русую бородку, а потом начинает развязывать кушак. Задержался он на дворе, так как нужно было убрать лошадей. На родине отца в Ченцах ночевали у сестры отца, бывшей замужем за дьяконом. Наша Загородская обстановка била небогатая, и все-таки от дома в Ченцах у меня осталось впечатление бедности и недостатка. Мне доселе кажется, что дом Шавровых — это простая крестьянская изба со скамейками и как будто бы даже с полатями. Талдомский дедушка жил иначе. Там был дом с рядом комнат, с крашеными полами, с большими окнами с занавесками. Самого дедушку помню смутно. Он был болен, и нас, детей, к нему не пускали.
По дороге туда и обратно проезжали через Бежецк, но города и его жизни я не заметил. Помню только, как на обратном пути останавливались на Постоялой улице около магазина Галуновых и нам вынесли уже приготовленные покупки. Двухэтажный дом Галуновых показался мне очень большим.
На обратном пути в Ченцах Илья, по просьбе отца нарубил сучьев красной вербы и привязал их на запятках саней. В Загородье красной вербы не было, а отцу она нравилась, должно быть, по воспоминаниям детства. Чтобы развести её и был нарублен пучок сучьев и перевезен более чем за полтораста верст. Из посаженных весной сучьев пошел один. Так и была разведена в Загородье красная верба.
Образование Загородского прихода
Может быть, национальной чертой карельского населения являете его религиозность. Даже в настоящее время, когда все религиозные системы, в том числе и православное учение, переживают сильный кризис, наличие религиозного настроения все еще заметно среди карельского населения. Семьдесят же лет тому назад религиозные запросы, очевидно, имели большое значение, и удовлетворение их было насущной потребностью. Население придерживалось господствующей, поддерживаемой правительством, православной церкви, старообрядчества совершенно не было. Лишь можно подметить слабые следы сектантства, как раз свидетельствующие о сильном религиозном настроении населения. У Емельяна Назарова — деда Николая Александрова — жена была хлыстовка, и этот дом еще до девяностых годов поддерживал связь с хлыстами деревни Куничихи.
Приходская церковь была в 12 верстах в селе Раевском. Дорога туда шла через большой казенный лес с низкими заболоченными местами, причем до ближайшего селения — деревни Осташихи — было не менее 8 верст. При таком расстоянии и такой дороге редко приходилось бывать в церкви. Особенно затруднено было сообщение осенью и ранней весной во время распутицы. Несомненно, сильно чувствовалась оторванность от храма. Некоторый корректив вносился тем, что была часовня, но это был именно только корректив. При часовне нет причты, поэтому не бывает систематического богослужения, а у религиозно настроенного человека есть потребность периодически участвовать в общественных религиозных собраниях. Без причты не могут совершаться обряды, а выполнение обрядов, опять таки, очень существенно для верующего человека.
Понятно, что у наиболее активной и инициативной части населения должна была зародиться мысль о постройке собственного храма. Эта мысль должна была получить поддержку в двух ближайших карельских деревнях Мокшицах и Хабарщине, так же удаленных от своего приходского храма в Сельцах.
Идея о постройке церкви возникла и осуществилась снизу по инициативе самого населения. Ни Раевское, ни Селецкое духовенство не могло быть инициатором. Создание нового прихода сокращало их приходы и тем самым уменьшало доход, да и пастырский уровень и Раевского и Селецкого священников был невысок — оба сильно были подвержены распространенному среди духовенства пороку — пьянству.
Из загородских крестьян особенно много приложили сил по созданию церкви Михаил Савельев и Григорий Васильев. Первый даже получил прозвище «Святугин». Из женской части населения нужно отметить участие в этом деле Авдотьи Ивановны, сестры деда Бровиных. 0на была и сборщицей на постройку храма, и неусыпным агитатором, поддерживавшим население во все время строительства.
Чтобы задача была посильной, можно было думать только о постройке небольшой деревянной церкви. В таком направлении и были поведены хлопоты. В лесничестве выхлопотали отвод делянки, причем нелишне отметить, что делянка была отведена больше чем за 10 верст от Загородья. Трудно сказать, чем был вызван такой отдаленный отвод при наличии казенных лесов около Загородья. Во всяком случае, в этом факте не видно желания облегчить постройку церкви. Лес вывозился самими крестьянами. По словам старика Василия Евсеева, делянка не была использована полностью, так как иногда крестьяне вместо того, чтобы ехать в отведенную делянку рубили лес близ Загородья. Так, по его рассказам, лес для колокольни был вывезен из Кененагушки, отведенной в общий лесной надел Раевской вотчины. Камень для фундамента также вывозился крестьянами бесплатно. На денежные расходы была выхлопотана ссуда, кажется, в 2 тысячи рублей. Насколько само население шло навстречу устройству церкви, подчеркивается тем фактом, что ссуда погашалась аккуратно и была выплачена своевременно.
Церковь была освящена в 1866 году. У населения такое было сильное желание скорее иметь свой храм, что консисторская медлительность в выполнении всяких формальностей производила впечатление сознательного тормоза. Склонны были думать, что есть препятствия со стороны благочинного священника села Костовского. Новый благочинный, сменивший костовского священника, с большим вниманием встретил всякие заявления, получилось впечатление, что благодаря его стараниям ускорено было освящение церкви.
Освящение церкви было большим праздником для села. Василий Евсеев, вспоминая об этом, особенно подчеркивал радостное всеобщее настроение. Все были объединены одной мыслью: дождались своей церкви.
Образовавшийся около церкви приход был небольшим. Основное ядро составляли Загородье, Мокшицы и Хабарщина. Две небольшие русские деревни Коргово и Замелье также принимали участие в постройке церкви и сразу же вошли в состав прихода. Присоединился и выселок из Андреянихи — деревня Фомино. Таким образом, около церкви объединилось около 130 дворов с семьюстами всего населения. Русские деревни Ручки и Ямники присоединились к Загородскому приходу спустя десять лет. Произошло это уже при моем отце.
Первый священник о. Василий Обудовский прослужил около трех лет и в 1869 году ушел, перейдя в с. Скиржи. Его преемник о. Петр Никольский пробыл год с небольшим и при первой же возможности перешел в другой приход. Таким образом, за 4 года сменилось два священника. Очевидно, были нелегкими материальные условия жизни священника в небольшом только что образованном приходе.
Приходская церковь была в 12 верстах в селе Раевском. Дорога туда шла через большой казенный лес с низкими заболоченными местами, причем до ближайшего селения — деревни Осташихи — было не менее 8 верст. При таком расстоянии и такой дороге редко приходилось бывать в церкви. Особенно затруднено было сообщение осенью и ранней весной во время распутицы. Несомненно, сильно чувствовалась оторванность от храма. Некоторый корректив вносился тем, что была часовня, но это был именно только корректив. При часовне нет причты, поэтому не бывает систематического богослужения, а у религиозно настроенного человека есть потребность периодически участвовать в общественных религиозных собраниях. Без причты не могут совершаться обряды, а выполнение обрядов, опять таки, очень существенно для верующего человека.
Понятно, что у наиболее активной и инициативной части населения должна была зародиться мысль о постройке собственного храма. Эта мысль должна была получить поддержку в двух ближайших карельских деревнях Мокшицах и Хабарщине, так же удаленных от своего приходского храма в Сельцах.
Идея о постройке церкви возникла и осуществилась снизу по инициативе самого населения. Ни Раевское, ни Селецкое духовенство не могло быть инициатором. Создание нового прихода сокращало их приходы и тем самым уменьшало доход, да и пастырский уровень и Раевского и Селецкого священников был невысок — оба сильно были подвержены распространенному среди духовенства пороку — пьянству.
Из загородских крестьян особенно много приложили сил по созданию церкви Михаил Савельев и Григорий Васильев. Первый даже получил прозвище «Святугин». Из женской части населения нужно отметить участие в этом деле Авдотьи Ивановны, сестры деда Бровиных. 0на была и сборщицей на постройку храма, и неусыпным агитатором, поддерживавшим население во все время строительства.
Чтобы задача была посильной, можно было думать только о постройке небольшой деревянной церкви. В таком направлении и были поведены хлопоты. В лесничестве выхлопотали отвод делянки, причем нелишне отметить, что делянка была отведена больше чем за 10 верст от Загородья. Трудно сказать, чем был вызван такой отдаленный отвод при наличии казенных лесов около Загородья. Во всяком случае, в этом факте не видно желания облегчить постройку церкви. Лес вывозился самими крестьянами. По словам старика Василия Евсеева, делянка не была использована полностью, так как иногда крестьяне вместо того, чтобы ехать в отведенную делянку рубили лес близ Загородья. Так, по его рассказам, лес для колокольни был вывезен из Кененагушки, отведенной в общий лесной надел Раевской вотчины. Камень для фундамента также вывозился крестьянами бесплатно. На денежные расходы была выхлопотана ссуда, кажется, в 2 тысячи рублей. Насколько само население шло навстречу устройству церкви, подчеркивается тем фактом, что ссуда погашалась аккуратно и была выплачена своевременно.
Церковь была освящена в 1866 году. У населения такое было сильное желание скорее иметь свой храм, что консисторская медлительность в выполнении всяких формальностей производила впечатление сознательного тормоза. Склонны были думать, что есть препятствия со стороны благочинного священника села Костовского. Новый благочинный, сменивший костовского священника, с большим вниманием встретил всякие заявления, получилось впечатление, что благодаря его стараниям ускорено было освящение церкви.
Освящение церкви было большим праздником для села. Василий Евсеев, вспоминая об этом, особенно подчеркивал радостное всеобщее настроение. Все были объединены одной мыслью: дождались своей церкви.
Образовавшийся около церкви приход был небольшим. Основное ядро составляли Загородье, Мокшицы и Хабарщина. Две небольшие русские деревни Коргово и Замелье также принимали участие в постройке церкви и сразу же вошли в состав прихода. Присоединился и выселок из Андреянихи — деревня Фомино. Таким образом, около церкви объединилось около 130 дворов с семьюстами всего населения. Русские деревни Ручки и Ямники присоединились к Загородскому приходу спустя десять лет. Произошло это уже при моем отце.
Первый священник о. Василий Обудовский прослужил около трех лет и в 1869 году ушел, перейдя в с. Скиржи. Его преемник о. Петр Никольский пробыл год с небольшим и при первой же возможности перешел в другой приход. Таким образом, за 4 года сменилось два священника. Очевидно, были нелегкими материальные условия жизни священника в небольшом только что образованном приходе.
Пропуск для фото (Дегтярные заводы у д. Мокшицы)
Отход на промыслы не был развит. Только некоторые в поисках приработка иногда добирались до Волочка, где занимались подвозкой дров на тамошние фабрики. Отдельные крестьяне — главным образом бобыли — уходили в Рыбное (Рыбинск) работать на пристанях. В очень редких случаях отход становился длительным, и отходник совершенно отрывался от деревни. Примеры: уход брата Николая Богданова — Филиппа в Волочек, Анисьи — сестры Василия Михайловича Костычева — в Петербург.
По экономическому уровню большинство населения принадлежало по теперешней терминологии к среднему крестьянству, т.е. силами своего хозяйства без эксплуатации чужого труда добивалась таких хозяйственных результатов, при которых покрывались основные потребности.
Ярко выраженной верхушечной группы не было. Экономическое благополучие сильных дворов поддерживалось главным образом сплоченностью большой семьи, имевшей в своём распоряжении несколько взрослых работников, поэтому обычно с распадом семьи начинался упадок хозяйства. В сороковых годах сильным хозяйством считалось хозяйство Аксена Бреднякова. К шестидесятым годам хозяйство двух дворов братьев Аксёновых — Ивана и Филиппа, живших раздельно, уже сильно спустилось под гору. А в восьмидесятых и девяностых годах хозяйства внуков (правнуков?) Ивана Яковлева Бреднякова, Аксена Ефимова и Артемия Иванова уже значились в бедняцкой группе. Кроме Аксёна Бреднякова сильными хозяйствами были хозяйство Ивана Естифеева и Василия Иванова — деда Бровиных.
Было небольшое питейное заведение, отставной Николаевский солдат Асен торговал вином на вынос. Торговля шла не бойко, так как через Загородье большой дороги не было, и приходилось рассчитывать главным образом на местного потребителя, а небольшое село при твёрдости ещё старых, не пошатнувшихся, устоев не могло дать много потребителей вина. Других торговых заведений не было. Потребность в покупных товарах удовлетворялась главным образом покупками на ярмарках, происходящих у Николо-Теребенского монастыря и в ближайших сёлах: Раевском, Ворожебском и Кострецах. Железной дороги ещё не было, она открыта для движения в 1870 году, поэтому ни Максатиха, ни Малышево как торговые пункты не существовали.
Была небольшая кузница, работал в ней местный крестьянин Василий Павлов, он же был и местный столяр, работал на заказ — крестьянские столы, сундуки и шкапики. Ни мельницы, ни маслобойки не было.
Вниз от среднего крестьянства шла беднота различной степени вплоть до безземельных бобылей, не имевших ни кола, ни двора. Эти жизненные неудачники жили «казаками» и «казачками» по зажиточным дворам или уходили главным образом в Рыбное искать себе счастье.
Элементы городской фабричной культуры очень слабо просачивались в тогдашний лесной загородскии край. Одевалось население в домотканое, рубахи и сарафаны шились из крашенины и набойки, кафтаны, армяки — из грубого домашнего сукна, белые балахоны — из холста, шубы и тулупы — из своих овчин. Обувью были лапти и валенки. По рассказам старика Василия Евсеева, большой деревенской сенсацией была покупка сапогов, очевидно, с бурками, молодым мужиком Иваном Ивановым Скоробогатовым. Покупками были платки и кушаки, кумач на праздничные мужские рубахи и на рукава русских рубашек женщин, ситец для нарядных сарафанов, верхний материал для парадных поддёвок.
Самовар был у николаевского солдата Асена да, кажется, у деда Бровиных — Василия Иванова. Баранки были лакомством и обычно привозились с ярмарки как гостинец. Из белой пшеничной муки само население ничего не пекло, употребляя лишь особый низкий сорт ее для начинки ржаных пирогов.
По экономическому уровню большинство населения принадлежало по теперешней терминологии к среднему крестьянству, т.е. силами своего хозяйства без эксплуатации чужого труда добивалась таких хозяйственных результатов, при которых покрывались основные потребности.
Ярко выраженной верхушечной группы не было. Экономическое благополучие сильных дворов поддерживалось главным образом сплоченностью большой семьи, имевшей в своём распоряжении несколько взрослых работников, поэтому обычно с распадом семьи начинался упадок хозяйства. В сороковых годах сильным хозяйством считалось хозяйство Аксена Бреднякова. К шестидесятым годам хозяйство двух дворов братьев Аксёновых — Ивана и Филиппа, живших раздельно, уже сильно спустилось под гору. А в восьмидесятых и девяностых годах хозяйства внуков (правнуков?) Ивана Яковлева Бреднякова, Аксена Ефимова и Артемия Иванова уже значились в бедняцкой группе. Кроме Аксёна Бреднякова сильными хозяйствами были хозяйство Ивана Естифеева и Василия Иванова — деда Бровиных.
Было небольшое питейное заведение, отставной Николаевский солдат Асен торговал вином на вынос. Торговля шла не бойко, так как через Загородье большой дороги не было, и приходилось рассчитывать главным образом на местного потребителя, а небольшое село при твёрдости ещё старых, не пошатнувшихся, устоев не могло дать много потребителей вина. Других торговых заведений не было. Потребность в покупных товарах удовлетворялась главным образом покупками на ярмарках, происходящих у Николо-Теребенского монастыря и в ближайших сёлах: Раевском, Ворожебском и Кострецах. Железной дороги ещё не было, она открыта для движения в 1870 году, поэтому ни Максатиха, ни Малышево как торговые пункты не существовали.
Была небольшая кузница, работал в ней местный крестьянин Василий Павлов, он же был и местный столяр, работал на заказ — крестьянские столы, сундуки и шкапики. Ни мельницы, ни маслобойки не было.
Вниз от среднего крестьянства шла беднота различной степени вплоть до безземельных бобылей, не имевших ни кола, ни двора. Эти жизненные неудачники жили «казаками» и «казачками» по зажиточным дворам или уходили главным образом в Рыбное искать себе счастье.
Элементы городской фабричной культуры очень слабо просачивались в тогдашний лесной загородскии край. Одевалось население в домотканое, рубахи и сарафаны шились из крашенины и набойки, кафтаны, армяки — из грубого домашнего сукна, белые балахоны — из холста, шубы и тулупы — из своих овчин. Обувью были лапти и валенки. По рассказам старика Василия Евсеева, большой деревенской сенсацией была покупка сапогов, очевидно, с бурками, молодым мужиком Иваном Ивановым Скоробогатовым. Покупками были платки и кушаки, кумач на праздничные мужские рубахи и на рукава русских рубашек женщин, ситец для нарядных сарафанов, верхний материал для парадных поддёвок.
Самовар был у николаевского солдата Асена да, кажется, у деда Бровиных — Василия Иванова. Баранки были лакомством и обычно привозились с ярмарки как гостинец. Из белой пшеничной муки само население ничего не пекло, употребляя лишь особый низкий сорт ее для начинки ржаных пирогов.