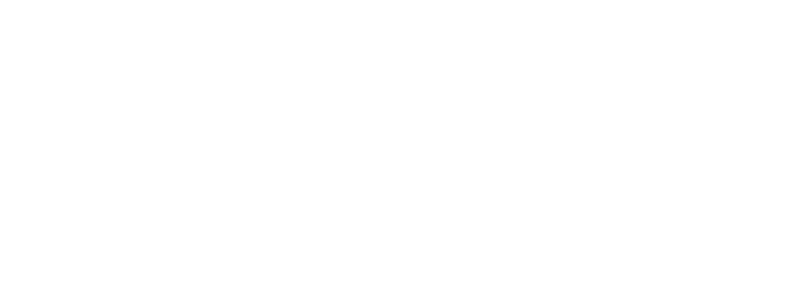
Воспоминания С. Г. Петровского (о семье)
Моя родословная
По линии отца свою родословную могу довести до прабабушки, по линии матери — только до дедушки. Отец мой был сыном дьячка с. Спас-Ченцы бывшего Корчевского уезда Тверской губ. Гавриила Тихоновича Петровского, также кутейника по своему происхождению. Родина деда было с. Петровские озера Корчевского уезда, где прадед был пономарем или дьячком. Откуда был родом прадед и кем был его отец, не знаю. Можно только предполагать, что также был кутейником, так как время его жизни падает на XVIII век, отличительной чертой которого является господство сословного строя.
Наша фамилия получила начало по с. Петровские Озера. В старину при поступлении в духовную школу был обычай давать фамилию или по селу, в котором служил отец ученика, или по церкви этого села. Сын служителя Никольской церкви получал фамилию Никольского, ученик, отец которого служил при церкви Петра и Павла, учился под фамилией Петропавловского. Иногда фамилия давалась не по церкви, а по селу. Происходившего из с. Раевского называли Раевским, из погоста Павского — Павским и т. д. Так как дед был из с. Петровские Озёра, то и назывался Петровским. Его старшие сыновья при поступлении в Кашинское духовное училище получили фамилию Спасских по церкви с. Спас Ченцы. Поэтому старший брат отца Николай Гавриилович, служивший псаломщиком в с. Цавцино, носил фамилию Спасский. Его сын (мой двоюродный брат) Семен Николаевич Спасский был дьяконом с. Селищи — Хвощна. Ко времени поступления моего отца в школу вышло распоряжение, чтобы дети записывались в школе по фамилии отца, и осталась фамилия деда — Петровский.
Отец родился около 1845—1846 года. Учился в Кашинском духовном училище и в Тверской духовной семинарии. Поступил в школу, когда уже наметились новые веяния, и бурса отживала свой век. Школа была тяжелая. Тяжело было от бурсатской учёбы-зубрёжки, от сурового бурсацкого уклада. Нелегко было и из-за бедности. По всей вероятности, немало пришлось пережить сыну бедного, обремененного семьей, дьячка во время продолжительного учения вдали от дома. Отец никогда не делился с нами воспоминаниями о своем детстве и о своей школьной жизни. Потому ли, что мало было радостного и не хотелось вспоминать тяжелые моменты прошлого?
Или, может, причина лежит в его малой общительности с нами, детьми. Склонен думать, что последнее вернее. Семинаристом отец был в шестидесятые годы — эпоху весьма интересную в истории русского общества и в особенности русской разночинной интеллигенции. Это были годы, когда разночинец пробивался кверху. Семинаристы тянулись к центрам, зачастую шли туда пешком. Вспомним Левитова. Поступали в университет. Пристращались к журналам, газетам. Это было время, когда произведения семинаристов — публицистов Добролюбова и Чернышевского широко были известны читающей России, когда «Луч света в темном царстве» Добролюбова и «Что делать» Чернышевского волновали молодёжь, когда всюду, включая и провинции, с нетерпением ожидалась следующая книжка журнала с очередной публицистической статьёй. Семинаристом Помяловским был дан бессмертный очерк бурсы. Семинаристы Успенский и Левитов писали рассказы из народной жизни.
Заварушка, происходившая в жизни, конечно, захватила и Тверскую духовную семинарию. Несомненно, и там были кружки по самообразованию, может быть даже с революционном уклоном, но надо полагать, что отец стоял в стороне. Вся его дальнейшая жизнь говорила о том, что юношеский период пережит им без особых исканий и без критической оценки традиций. Нигилизм шестидесятых годов не задел его. Возможно, что застенчивому семинаристу из бедной семьи дьячка, скромному в оценке своих сил, казалось весьма хорошим достижением окончить семинарию и получить право быть священником.
Весной, вернее, в начале лета 1867 года, отец окончил семинарию по второму разряду со званием богослова. Окончившие в первом разряде назывались студентами и имели право поступать в духовную академию. В январе 1868 г. отец получил место учителя народной школы в с. Зайцеве (Козьмодемьяновское тож) Нагорской волости Калязинского уезда. Это была одна из первых школ, открытых только что организованным земством.
О родословной по линии матери моя осведомленность не идет дальше, дедушки — отца матери, священника с. Талдом Калязинского уезда о. Фёдора Ушакова. Моя мать была одной из младших его дочерей, и, рано лишившись матери, росла под наблюдением старшей сестры Александры. Материальное положение дедушки было неплохое и по всей вероятности было выше среднего уровня тогдашнего духовенства нашей губернии. Это видно из того, что у него был хороший дом, и в нескольких верстах от Талдома на пустоши Ференке было несколько десятин купленной земли-сенокоса. Хозяин он был расчетливый. По словам матери, в длинные зимние вечера сортировал семенную рожь, отбирая по зернышку. 0чевидно, весь уклад в доме был проникнут хозяйственным расчетом. Эта сторона целиком была унаследована матерью. В нашей семье все хозяйство держалось на матери. Дедушка священствовал очень долго — до глубокой старости, дослужился до протоиерея и имел наперсный крест. По выходе за штат его священническое место, по тогдашнему обычаю занял зять — муж младшей дочери Надежды. Семья у дедушки была большая. Знаю, что было три сына: Алексей, Илья и Петр и четыре дочери: Александра, Елизавета — моя мать, Надежда и еще бывшая замужем за священником соседнего с Талдомом села Квашенок, но имя её не помню. Быт семьи был патриархальный. Мать была очень замкнута и с нами, детьми, совсем не делилась воспоминаниями о своем детстве, о жизни в доме отца, поэтому мои сведении о дедушке очень отрывочны и скудны.
Училась мать у своего отца дома и, конечно, по самому старинному методу и, пожалуй, больше церковнославянскому чтению, чем гражданскому русскому. Грамотность её была небольшая, умела читать и с трудом расписывалась.
Наша фамилия получила начало по с. Петровские Озера. В старину при поступлении в духовную школу был обычай давать фамилию или по селу, в котором служил отец ученика, или по церкви этого села. Сын служителя Никольской церкви получал фамилию Никольского, ученик, отец которого служил при церкви Петра и Павла, учился под фамилией Петропавловского. Иногда фамилия давалась не по церкви, а по селу. Происходившего из с. Раевского называли Раевским, из погоста Павского — Павским и т. д. Так как дед был из с. Петровские Озёра, то и назывался Петровским. Его старшие сыновья при поступлении в Кашинское духовное училище получили фамилию Спасских по церкви с. Спас Ченцы. Поэтому старший брат отца Николай Гавриилович, служивший псаломщиком в с. Цавцино, носил фамилию Спасский. Его сын (мой двоюродный брат) Семен Николаевич Спасский был дьяконом с. Селищи — Хвощна. Ко времени поступления моего отца в школу вышло распоряжение, чтобы дети записывались в школе по фамилии отца, и осталась фамилия деда — Петровский.
Отец родился около 1845—1846 года. Учился в Кашинском духовном училище и в Тверской духовной семинарии. Поступил в школу, когда уже наметились новые веяния, и бурса отживала свой век. Школа была тяжелая. Тяжело было от бурсатской учёбы-зубрёжки, от сурового бурсацкого уклада. Нелегко было и из-за бедности. По всей вероятности, немало пришлось пережить сыну бедного, обремененного семьей, дьячка во время продолжительного учения вдали от дома. Отец никогда не делился с нами воспоминаниями о своем детстве и о своей школьной жизни. Потому ли, что мало было радостного и не хотелось вспоминать тяжелые моменты прошлого?
Или, может, причина лежит в его малой общительности с нами, детьми. Склонен думать, что последнее вернее. Семинаристом отец был в шестидесятые годы — эпоху весьма интересную в истории русского общества и в особенности русской разночинной интеллигенции. Это были годы, когда разночинец пробивался кверху. Семинаристы тянулись к центрам, зачастую шли туда пешком. Вспомним Левитова. Поступали в университет. Пристращались к журналам, газетам. Это было время, когда произведения семинаристов — публицистов Добролюбова и Чернышевского широко были известны читающей России, когда «Луч света в темном царстве» Добролюбова и «Что делать» Чернышевского волновали молодёжь, когда всюду, включая и провинции, с нетерпением ожидалась следующая книжка журнала с очередной публицистической статьёй. Семинаристом Помяловским был дан бессмертный очерк бурсы. Семинаристы Успенский и Левитов писали рассказы из народной жизни.
Заварушка, происходившая в жизни, конечно, захватила и Тверскую духовную семинарию. Несомненно, и там были кружки по самообразованию, может быть даже с революционном уклоном, но надо полагать, что отец стоял в стороне. Вся его дальнейшая жизнь говорила о том, что юношеский период пережит им без особых исканий и без критической оценки традиций. Нигилизм шестидесятых годов не задел его. Возможно, что застенчивому семинаристу из бедной семьи дьячка, скромному в оценке своих сил, казалось весьма хорошим достижением окончить семинарию и получить право быть священником.
Весной, вернее, в начале лета 1867 года, отец окончил семинарию по второму разряду со званием богослова. Окончившие в первом разряде назывались студентами и имели право поступать в духовную академию. В январе 1868 г. отец получил место учителя народной школы в с. Зайцеве (Козьмодемьяновское тож) Нагорской волости Калязинского уезда. Это была одна из первых школ, открытых только что организованным земством.
О родословной по линии матери моя осведомленность не идет дальше, дедушки — отца матери, священника с. Талдом Калязинского уезда о. Фёдора Ушакова. Моя мать была одной из младших его дочерей, и, рано лишившись матери, росла под наблюдением старшей сестры Александры. Материальное положение дедушки было неплохое и по всей вероятности было выше среднего уровня тогдашнего духовенства нашей губернии. Это видно из того, что у него был хороший дом, и в нескольких верстах от Талдома на пустоши Ференке было несколько десятин купленной земли-сенокоса. Хозяин он был расчетливый. По словам матери, в длинные зимние вечера сортировал семенную рожь, отбирая по зернышку. 0чевидно, весь уклад в доме был проникнут хозяйственным расчетом. Эта сторона целиком была унаследована матерью. В нашей семье все хозяйство держалось на матери. Дедушка священствовал очень долго — до глубокой старости, дослужился до протоиерея и имел наперсный крест. По выходе за штат его священническое место, по тогдашнему обычаю занял зять — муж младшей дочери Надежды. Семья у дедушки была большая. Знаю, что было три сына: Алексей, Илья и Петр и четыре дочери: Александра, Елизавета — моя мать, Надежда и еще бывшая замужем за священником соседнего с Талдомом села Квашенок, но имя её не помню. Быт семьи был патриархальный. Мать была очень замкнута и с нами, детьми, совсем не делилась воспоминаниями о своем детстве, о жизни в доме отца, поэтому мои сведении о дедушке очень отрывочны и скудны.
Училась мать у своего отца дома и, конечно, по самому старинному методу и, пожалуй, больше церковнославянскому чтению, чем гражданскому русскому. Грамотность её была небольшая, умела читать и с трудом расписывалась.
Женитьба отца
Как познакомились отец и мать, как происходило сватовство, когда была свадьба — об этом ничего не говорили ни отец, ни мать. Надо думать, что известную роль сыграло то, что отец учительствовал в Зайцево (Козьмодемьяновское) и что в Медведицком у него были родственники. Эти два пункта уж не так далеко от Талдома. Конечно, молодой учитель бывал на вечерниках в соседних к Зайцеву и Медведицкому селах и на них мог встречаться с поповною из Талдома.
Отец был застенчивым, скромным семинаристом, сыном дьячка без всяких связей и, чтобы протоиерей видного богатого села отдал за него свою дочь, должен был быть хороший сват. Кто-то был таким сватом. Впрочем, очень заносчивым в этом отношении дедушке нельзя было быть, так как нужно было думать об устройстве Лизы. За ней подрастала еще невеста — младшая дочь Надежда. Чтобы можно было оставить её хозяйкой талдомского дома, нужно было Лизу отдать на сторону.
Сватовство было принято, и Лиза Ушакова стала Петровской — женой зайцевского учителя. Дедушка отпустил её со скромным приданым, заключавшемся в девичьих нарядах, небольшом запасе белья, самоваре и нескольких чайный ложках. Денежного приданого не было. Полученное матерью приданое было скромным по сравнению с тем, что осталось её младшей сестре Надежде. Тут дедушкой было допущено некоторое неравенство, и этот факт был причиной того холодка, который долго чувствовался в отношениях нашей семьи с талдомскими родственниками. Только, когда подросло младшее загородское поколение и экономическое положение нашей семьи стало более прочно, наладилась связь с Талдомом.
Свадьба была в начале 1870 г. Больше полутора лет — почти до конца 1871 г. — отец прожил с молодой женой в Зайцеве на скромном учительском жалованье. Там у них родился мой старший брат Коля.
Отец был застенчивым, скромным семинаристом, сыном дьячка без всяких связей и, чтобы протоиерей видного богатого села отдал за него свою дочь, должен был быть хороший сват. Кто-то был таким сватом. Впрочем, очень заносчивым в этом отношении дедушке нельзя было быть, так как нужно было думать об устройстве Лизы. За ней подрастала еще невеста — младшая дочь Надежда. Чтобы можно было оставить её хозяйкой талдомского дома, нужно было Лизу отдать на сторону.
Сватовство было принято, и Лиза Ушакова стала Петровской — женой зайцевского учителя. Дедушка отпустил её со скромным приданым, заключавшемся в девичьих нарядах, небольшом запасе белья, самоваре и нескольких чайный ложках. Денежного приданого не было. Полученное матерью приданое было скромным по сравнению с тем, что осталось её младшей сестре Надежде. Тут дедушкой было допущено некоторое неравенство, и этот факт был причиной того холодка, который долго чувствовался в отношениях нашей семьи с талдомскими родственниками. Только, когда подросло младшее загородское поколение и экономическое положение нашей семьи стало более прочно, наладилась связь с Талдомом.
Свадьба была в начале 1870 г. Больше полутора лет — почти до конца 1871 г. — отец прожил с молодой женой в Зайцеве на скромном учительском жалованье. Там у них родился мой старший брат Коля.
Получение священнического места
Учительство для отца было временным занятием до приискания священнического места, а при тогдашних порядках в духовной консистории последнее было делом нелегким. Для того чтобы получить сносное место, нужно было иметь связи, влияние или средства для оплаты чиновникам их мнимых или действительных услуг по предоставлению места. У отца же не было ни влиятельных лиц, которые бы могли за него замолвить словечко перед секретарем консистории или лучше перед самим архиереем, ни денег, чтобы оплатить чиновникам их притязания на услугу. Но все-таки без «своего человека» в консистории не обойтись. Нужно было, чтобы кто-нибудь следил за освобождающимися местами, ставил об этом в известность, при открывающейся возможности подавал заявление. Из отрывочных рассказов отца знаю, что такой свой человек был и у него, и что один консисторский чиновник сообщил ему нужные сведения. Но так как плата отца, несомненно, была очень скромная, то надо думать, что чиновник этот был не из влиятельных и к тому же не имел сильных побуждений действовать энергично в отстаивании интересов отца. Поэтому понятно, что отцу долгонько пришлось дожидаться, да и полученное место было одним из самых последних. В конце 1871 г. отцу было предоставлено место священника в с. Загородье. Обряд был совершен тверским архиепископом Филофеем 22 ноября, в день праздника св. Михаила Тверского.
Приезд отца в Загородье
Небольшой и бедный, закинутый в глухой угол, загородский приход не был привлекательным, поэтому мой отец, семинарист второго разряда, не имевший протекции, живший вдали от духовной консистории, и получил назначение на этот приход. Никто не мог позавидовать этому назначению, но так как отличительной чертой отца была скромность в оценке своих сил и способностей, то, по всей вероятности, не без робости было получено извещение о назначении. Учительство было оставлено. Посвящение было в Твери архиепископом Филофеем 22 ноября по ст. стилю в день св. Михаила Тверского. По принятому обычаю некоторое время после посвящения отец для практики служил в Твери. В Загородье же приехал в декабре после Николы перед святками.
Не без волнения подъезжали в Загородье отец и мать. Что принесет жизнь в глухом лесном углу? Как-то встретит население? Где можно будет устроиться? Первый же день показал, что можно быть спокойным, так как прихожанам не чужды заботы о своем священнике. Не нужно было думать о квартире. Еще при открытии прихода были поставлены два дома для причты: один, побольше, — для священника и другой, поменьше, — для псаломщика.
Дом священника-это небольшая крестьянская изба размером 10 на 10 аршин с четырьмя окнами с фасада, внутри разделенная тесовыми переборками. Налево от двери была отгорожена кухня, направо — горница и темная спальня. Задний угол кухни занимала большая глинобитная русская печь. Горница и спальня обогревались небольшой голландкой. В горнице и в кухне вдоль наружных стен шли широкие деревянные лавки. К избе примыкали большие сени и кладовка, срубленные из круглого леса. Непосредственно за сенями шел светлый двор с хлевом на 2 коровы и несколько голов мелкого скота. Этот небольшой скромным дом должен был произвести неплохое впечатление на отца, выросшего в маленьком домике сельского дьячка, затем пожившего по тесным семинарским квартирам и последнее время жившего на квартире сельского учителя. Но надо полагать и мать не без довольства входила в загородский церковный дом, хотя он и был далеко не похож на талдомский дом её отца. Скромный загородский дом давал возможность начать хозяйство и устройство семейной жизни.
В первые же дни по приезде отца в Загородье активной частью прихожан был устроен сбор хлеба и разных деревенских продуктов, и все это доставлено отцу. Так как в семье отца был годовалый ребенок, то чувствовалась необходимость в корове. При содействии прихожан и это была разрешено. С большим трудом построившие церковь и добившиеся открытия прихода прихожане не могли не заботиться о вновь прибывшем священнике. Насколько было внимательное отношение видно из того, что были приняты меры к обеспечению ржаной соломой, необходимой для постилки на дворе. Чувствовалось, что есть группа, на которую можно опереться. Такая встреча и дальнейшее внимательное отношение со стороны прихожан повели к тому, что отец привязался к Загородью и не думал о переходе в другой приход.
Загородская природа подкрепляла привязанность к месту. Нельзя было не полюбить Мологу — тихую, спокойную летом, быструю, многоводную, широко разлившуюся — весной. Не мог не привлекать весь ландшафт лесного угла. Лес, река, поля — всё много имело привлекательного. Глубоко запечатлевались, и приковывали к себе картины окружающей природы.
Летний вечер. С берегового пригорка открывается вид на реку, пойму и окаймляющий ее лас. Река затихла, в зеркале её поверхности отражаются прибрежные кусты. Изредка гладь воды нарушается всплесками рыбы. Быстро разбегаются круги, и поверхность опять гладка и спокойна. Вдали над озером поднимается небольшой туман. Сосновый бор все становится темнее. Где-то над болотом начинает кричать филин. Его уханье отдается эхом о сосновый бор. Тёмная июльская ночь. Скрипнула дверь у церковной сторожки. Слышны шаги — это сторож делает первый обход церкви. Обошел, начинает бить часы. В ночной тишине хорошо слышно, как за рекой многократное эхо повторяет удары колокола.
Большим плюсом для Загородья было то, что ни в самом селе, ни кругом не было помещиков. Загородье, Мокшицы, Хабарщина, Фомино, Коргово и Замелье были деревни государственных крестьян. Только Ручки и Ямники были помещичьи, но их бывший помещик был за 10—12 верст в селе Ворожебском. Впрочем, рядом селом Загородье за рекой на страже «Мертвая заводь» жил лесничий казенных лесов. Для окружающих крестьян это был барин. Так его они и звали, но он не имел никакого отношения ни к церкви, ни к приходу, ни к священнику, т.к. по вероисповедованию был католик, а по национальности поляк, да и характера был замкнутого. Жил, как медведь в берлоге.
В восьми верстах от Загородья в поместье Новое Отрадное жил Кенике, но это был помещик новой формации, не связанный с крепостническими традициями, да и большой связи селом Загородье он не имел.
Не было барина, а значит — и зависимости от него.
В семидесятых годах освободилась место священника в соседнем селе Рыбинском. Часть прихожан сделало предложение отцу перейти к ним, но так как Рыбинское было крупным дворянским гнездом и там жило много старинных дворянских фамилий (Бестужевы-Рюмины, Мальковские, Мельницкие, Нежинские-Ресины), то он, не колеблясь, отказался.
Была еще черта, делавшая привлекательным Загородье — это то, что оно было в стороне от всякого начальства. До исправника было больше ста вёрст, до пристава — не меньше сорока, даже до волостного правления — больше 10 вёрст. А для русского человека всегда было лучше быть подальше от начальства.
Мать также нашла в Загородье то, что желала. Ёй очень хотелось, чтобы там, куда забросит их судьба, были лес и река. Очевидно, матери хотелось, чтобы природа новой родины не была такой унылой, как в Талдоме. На неё, выросшую в большом торговом селе, стоящем на однообразной, лишенной даже маленькой речки, равнине, загородская природа должна была произвести хорошее впечатление. Село на берегу реки многоводной, но спокойной, отлогие холмы, покрытые лесом, рядом с селом вековой сосновый бор, обилие грибов и ягод — все это не могла не привлекать. Спустя З0 лет мать с любовью вспоминала о том, как по утрам до чая ходила за белыми грибами в сосновый бор на горе за ручьем по дороге в Замелье.
Не без волнения подъезжали в Загородье отец и мать. Что принесет жизнь в глухом лесном углу? Как-то встретит население? Где можно будет устроиться? Первый же день показал, что можно быть спокойным, так как прихожанам не чужды заботы о своем священнике. Не нужно было думать о квартире. Еще при открытии прихода были поставлены два дома для причты: один, побольше, — для священника и другой, поменьше, — для псаломщика.
Дом священника-это небольшая крестьянская изба размером 10 на 10 аршин с четырьмя окнами с фасада, внутри разделенная тесовыми переборками. Налево от двери была отгорожена кухня, направо — горница и темная спальня. Задний угол кухни занимала большая глинобитная русская печь. Горница и спальня обогревались небольшой голландкой. В горнице и в кухне вдоль наружных стен шли широкие деревянные лавки. К избе примыкали большие сени и кладовка, срубленные из круглого леса. Непосредственно за сенями шел светлый двор с хлевом на 2 коровы и несколько голов мелкого скота. Этот небольшой скромным дом должен был произвести неплохое впечатление на отца, выросшего в маленьком домике сельского дьячка, затем пожившего по тесным семинарским квартирам и последнее время жившего на квартире сельского учителя. Но надо полагать и мать не без довольства входила в загородский церковный дом, хотя он и был далеко не похож на талдомский дом её отца. Скромный загородский дом давал возможность начать хозяйство и устройство семейной жизни.
В первые же дни по приезде отца в Загородье активной частью прихожан был устроен сбор хлеба и разных деревенских продуктов, и все это доставлено отцу. Так как в семье отца был годовалый ребенок, то чувствовалась необходимость в корове. При содействии прихожан и это была разрешено. С большим трудом построившие церковь и добившиеся открытия прихода прихожане не могли не заботиться о вновь прибывшем священнике. Насколько было внимательное отношение видно из того, что были приняты меры к обеспечению ржаной соломой, необходимой для постилки на дворе. Чувствовалось, что есть группа, на которую можно опереться. Такая встреча и дальнейшее внимательное отношение со стороны прихожан повели к тому, что отец привязался к Загородью и не думал о переходе в другой приход.
Загородская природа подкрепляла привязанность к месту. Нельзя было не полюбить Мологу — тихую, спокойную летом, быструю, многоводную, широко разлившуюся — весной. Не мог не привлекать весь ландшафт лесного угла. Лес, река, поля — всё много имело привлекательного. Глубоко запечатлевались, и приковывали к себе картины окружающей природы.
Летний вечер. С берегового пригорка открывается вид на реку, пойму и окаймляющий ее лас. Река затихла, в зеркале её поверхности отражаются прибрежные кусты. Изредка гладь воды нарушается всплесками рыбы. Быстро разбегаются круги, и поверхность опять гладка и спокойна. Вдали над озером поднимается небольшой туман. Сосновый бор все становится темнее. Где-то над болотом начинает кричать филин. Его уханье отдается эхом о сосновый бор. Тёмная июльская ночь. Скрипнула дверь у церковной сторожки. Слышны шаги — это сторож делает первый обход церкви. Обошел, начинает бить часы. В ночной тишине хорошо слышно, как за рекой многократное эхо повторяет удары колокола.
Большим плюсом для Загородья было то, что ни в самом селе, ни кругом не было помещиков. Загородье, Мокшицы, Хабарщина, Фомино, Коргово и Замелье были деревни государственных крестьян. Только Ручки и Ямники были помещичьи, но их бывший помещик был за 10—12 верст в селе Ворожебском. Впрочем, рядом селом Загородье за рекой на страже «Мертвая заводь» жил лесничий казенных лесов. Для окружающих крестьян это был барин. Так его они и звали, но он не имел никакого отношения ни к церкви, ни к приходу, ни к священнику, т.к. по вероисповедованию был католик, а по национальности поляк, да и характера был замкнутого. Жил, как медведь в берлоге.
В восьми верстах от Загородья в поместье Новое Отрадное жил Кенике, но это был помещик новой формации, не связанный с крепостническими традициями, да и большой связи селом Загородье он не имел.
Не было барина, а значит — и зависимости от него.
В семидесятых годах освободилась место священника в соседнем селе Рыбинском. Часть прихожан сделало предложение отцу перейти к ним, но так как Рыбинское было крупным дворянским гнездом и там жило много старинных дворянских фамилий (Бестужевы-Рюмины, Мальковские, Мельницкие, Нежинские-Ресины), то он, не колеблясь, отказался.
Была еще черта, делавшая привлекательным Загородье — это то, что оно было в стороне от всякого начальства. До исправника было больше ста вёрст, до пристава — не меньше сорока, даже до волостного правления — больше 10 вёрст. А для русского человека всегда было лучше быть подальше от начальства.
Мать также нашла в Загородье то, что желала. Ёй очень хотелось, чтобы там, куда забросит их судьба, были лес и река. Очевидно, матери хотелось, чтобы природа новой родины не была такой унылой, как в Талдоме. На неё, выросшую в большом торговом селе, стоящем на однообразной, лишенной даже маленькой речки, равнине, загородская природа должна была произвести хорошее впечатление. Село на берегу реки многоводной, но спокойной, отлогие холмы, покрытые лесом, рядом с селом вековой сосновый бор, обилие грибов и ягод — все это не могла не привлекать. Спустя З0 лет мать с любовью вспоминала о том, как по утрам до чая ходила за белыми грибами в сосновый бор на горе за ручьем по дороге в Замелье.
Жизнь отца и матери в Загородье в первые годы
Жизнь потекла обычным порядком. Нужно было думать о практическом устройстве. На руках уже был сын, и ожидалось рождение другого ребенка. Доход от прихода, несомненно, был очень скромен, и нужно было с большим уменьем вести хозяйство, чтобы оно покрывало основные потребности. Главным организатором хозяйства была мать, выросшая в доме с хорошо налаженным хозяйством. Требовалось не только поставить домашнее хозяйство в узком смысле этого слова, а нужно было думать и о хозяйстве на дворе, поле и огороде. Вызывалось это натуральным укладом жизни, нужно было иметь от своего хозяйства и молочные продукты, и яйца, и мясо, и овощи и муку и даже крупу.
В организации хозяйства отец и мать пошли обычным путем крестьянского хозяйства. Полевое хозяйство было обычным трехпольем с посевом ржи в озимом поле и овса — в яровом. Ячмень не сеяли, очевидно, потому, что в хозяйстве его требовалось немного. Картофель был культурой огородной, и сажали на усадьбе. На самых песчаных, плохо удобренных, местах сеялась гречиха. Льном не занимались, так как эта культура очень трудоемкая, а в хозяйстве свободных рук не было. В способе обработки не было ничего нового, оригинального по сравнению с крестьянским хозяйством.
Не отличалось от крестьянского и скотоводство. Коровы были местной породы, не отличавшиеся большой удойливостью, но зато и не взыскательные на корм. Летом с раннего утра до позднего вечера угоняли их в поле, поэтому от одной дойки до другой проходили от 15 до 18-ти и даже более часов. Дома никакой дачи не полагалось, и даже не поили их. Зимой главным кормом была трясинка — смесь овсяной соломы с сеном, иногда на ночь давалась одна ржаная солома. Так как для поля нужен был навоз, поэтому старались, чтобы на дворе зимовало не меньше, 4-х коров. Кроме того, для мены выкармливалась телка. Обычно коровы телись в феврале—марте, но для того, чтобы на святках не быть без молока, старались, чтобы, по крайней мере, одна корова телилась в филиповке — в декабре-месяце. Молодых телят кололи для себя — одного к Рождеству, другого — к Пасхе. Двух кормили летом до поздней осени, когда их продавали заборщикам. Были заведены и овцы. Эта часть скотоводства давала: шерсть, необходимую на валенную обувь и на грубое сукно для кафтанов, овчин для шуб и тулупов и, наконец, мясо. Обычно от 3-х зимовавших взрослых овец было до 5 ягнят. Кололись ягнята по мере необходимости и первого, но большей частью резали к Петрову дню.
Огородное хозяйство было несколько выше крестьянского. В то время у крестьян обычно в огородах сажался картофель, сеялась конопля, было насколько грядок с луком и брюквой. Огурцы не сажали, морковь и репа не сеялись. Для капусты отводилось особое место посырее и поближе к воде, но обычно и на этих специальных капустниках хороших кочней не вырастало. Должно быть, еще не умели ухаживать за этой культурой. Огород матери по сравнению е крестьянским был значительно культурнее: конечно сажались огурцы, была морковь, репа, свекла, петрушка, лук, была грядка с горохом, сажались и бобы. Надо сказать, что культура капусты также не удавалась, как и у крестьян. Очевидно, мать не могла приноровиться к бедной, песчаной загородской почве.
Полевое хозяйство велось арендаторами, работавшими из доли. Ими производилась своим инвентарем на своих лошадях полная обработка земли и уборка хлебов. Отец давал только семена и удобрение. Таким образом, арендаторы должны были вспахать и забороновать каждое поле столько раз, сколько требовалось каждой культуре, вывезти навоз, произвести посев, сжать хлеб, убрать его и обмолотить. Урожай делился следующим образом: солома, мякина, охвостье целиком шли отцу; возвращались семена, и затем оставшееся зерно делилось пополам. Арендатором был многосемейный двор Клименевых из русской помещичьей деревни Ямников, бывшей на обычном четырёхдесятинном на ревизовскую душу наделе и поэтому ощущавшей недостаток в земле.
В первые годы жизни в Загородье отец и мать не были такими исключительными домоседами, какими помню их. Было заведено знакомство с духовенством ближайших сел. Более прочная связь установилась со священником с. Дымцево о. Николаем Козаревым. Он был почти ровесник отца, разве несколько постарше, такой же скромный, как и отец, без всякого стремления выдвинуться. С духовенством других сел связь как-то не налаживалась. Мешала разница в возрасте. В Раевском, Топальском и Сельцах священники были старики, да к тому же с большой наклонностью к выпивке, а сходиться на этой почве, отец был не склонен.
До поступления старшего сына в духовное училище не было особой необходимости бывать в городе, а для хозяйства нужны были разные покупки, поэтому, естественно, приходилось пользоваться Николо-Теребенскими ярмарками. Ездили к Николе Теребени не только из-за покупок, а также и потому, что среди братии были знакомые и даже родственники отца. Архимандрит о. Арсений Изотов был хорошо знаком с отцом, а сменивший его о. Феофан был даже родственником отца.
Предпринимались и отдельные поездки. Вниз по Мологе за большими лесами Железнинского лесничества в селе Пестове жили родственники. Тамошний священник был женат на племяннице матери. От Загородья до Пестова не менее 50 верст. Несмотря на такое расстояние, была предпринята поездка. Ездили на своей лошади, захватив детей. Эта поездка оставила глубокий след в памяти одного из моих старших братьев, Федора. Четырех—пятилетнего мальчика, каким был Фёдор во время поездки в Пестово, сильно поразила картина векового, дремучего ласа.
Как-то весной ездили на своей лошади в Осташков к Нилу Столбенскому. В этой поездке принимала участие Авдотья Ивановна, старая девица, религиозно настроенная, одна из самых энергичных сборщиц на построение церкви. Она всегда держала связь с домом отца. От Загородья до Осташкова больше двухсот верст, поэтому эта поездка, несомненно, была большим событием.
В организации хозяйства отец и мать пошли обычным путем крестьянского хозяйства. Полевое хозяйство было обычным трехпольем с посевом ржи в озимом поле и овса — в яровом. Ячмень не сеяли, очевидно, потому, что в хозяйстве его требовалось немного. Картофель был культурой огородной, и сажали на усадьбе. На самых песчаных, плохо удобренных, местах сеялась гречиха. Льном не занимались, так как эта культура очень трудоемкая, а в хозяйстве свободных рук не было. В способе обработки не было ничего нового, оригинального по сравнению с крестьянским хозяйством.
Не отличалось от крестьянского и скотоводство. Коровы были местной породы, не отличавшиеся большой удойливостью, но зато и не взыскательные на корм. Летом с раннего утра до позднего вечера угоняли их в поле, поэтому от одной дойки до другой проходили от 15 до 18-ти и даже более часов. Дома никакой дачи не полагалось, и даже не поили их. Зимой главным кормом была трясинка — смесь овсяной соломы с сеном, иногда на ночь давалась одна ржаная солома. Так как для поля нужен был навоз, поэтому старались, чтобы на дворе зимовало не меньше, 4-х коров. Кроме того, для мены выкармливалась телка. Обычно коровы телись в феврале—марте, но для того, чтобы на святках не быть без молока, старались, чтобы, по крайней мере, одна корова телилась в филиповке — в декабре-месяце. Молодых телят кололи для себя — одного к Рождеству, другого — к Пасхе. Двух кормили летом до поздней осени, когда их продавали заборщикам. Были заведены и овцы. Эта часть скотоводства давала: шерсть, необходимую на валенную обувь и на грубое сукно для кафтанов, овчин для шуб и тулупов и, наконец, мясо. Обычно от 3-х зимовавших взрослых овец было до 5 ягнят. Кололись ягнята по мере необходимости и первого, но большей частью резали к Петрову дню.
Огородное хозяйство было несколько выше крестьянского. В то время у крестьян обычно в огородах сажался картофель, сеялась конопля, было насколько грядок с луком и брюквой. Огурцы не сажали, морковь и репа не сеялись. Для капусты отводилось особое место посырее и поближе к воде, но обычно и на этих специальных капустниках хороших кочней не вырастало. Должно быть, еще не умели ухаживать за этой культурой. Огород матери по сравнению е крестьянским был значительно культурнее: конечно сажались огурцы, была морковь, репа, свекла, петрушка, лук, была грядка с горохом, сажались и бобы. Надо сказать, что культура капусты также не удавалась, как и у крестьян. Очевидно, мать не могла приноровиться к бедной, песчаной загородской почве.
Полевое хозяйство велось арендаторами, работавшими из доли. Ими производилась своим инвентарем на своих лошадях полная обработка земли и уборка хлебов. Отец давал только семена и удобрение. Таким образом, арендаторы должны были вспахать и забороновать каждое поле столько раз, сколько требовалось каждой культуре, вывезти навоз, произвести посев, сжать хлеб, убрать его и обмолотить. Урожай делился следующим образом: солома, мякина, охвостье целиком шли отцу; возвращались семена, и затем оставшееся зерно делилось пополам. Арендатором был многосемейный двор Клименевых из русской помещичьей деревни Ямников, бывшей на обычном четырёхдесятинном на ревизовскую душу наделе и поэтому ощущавшей недостаток в земле.
В первые годы жизни в Загородье отец и мать не были такими исключительными домоседами, какими помню их. Было заведено знакомство с духовенством ближайших сел. Более прочная связь установилась со священником с. Дымцево о. Николаем Козаревым. Он был почти ровесник отца, разве несколько постарше, такой же скромный, как и отец, без всякого стремления выдвинуться. С духовенством других сел связь как-то не налаживалась. Мешала разница в возрасте. В Раевском, Топальском и Сельцах священники были старики, да к тому же с большой наклонностью к выпивке, а сходиться на этой почве, отец был не склонен.
До поступления старшего сына в духовное училище не было особой необходимости бывать в городе, а для хозяйства нужны были разные покупки, поэтому, естественно, приходилось пользоваться Николо-Теребенскими ярмарками. Ездили к Николе Теребени не только из-за покупок, а также и потому, что среди братии были знакомые и даже родственники отца. Архимандрит о. Арсений Изотов был хорошо знаком с отцом, а сменивший его о. Феофан был даже родственником отца.
Предпринимались и отдельные поездки. Вниз по Мологе за большими лесами Железнинского лесничества в селе Пестове жили родственники. Тамошний священник был женат на племяннице матери. От Загородья до Пестова не менее 50 верст. Несмотря на такое расстояние, была предпринята поездка. Ездили на своей лошади, захватив детей. Эта поездка оставила глубокий след в памяти одного из моих старших братьев, Федора. Четырех—пятилетнего мальчика, каким был Фёдор во время поездки в Пестово, сильно поразила картина векового, дремучего ласа.
Как-то весной ездили на своей лошади в Осташков к Нилу Столбенскому. В этой поездке принимала участие Авдотья Ивановна, старая девица, религиозно настроенная, одна из самых энергичных сборщиц на построение церкви. Она всегда держала связь с домом отца. От Загородья до Осташкова больше двухсот верст, поэтому эта поездка, несомненно, была большим событием.
Отец как священник
Религиозные воззрения отца, полученные в патриархальной семье сельского дьячка, были подкреплены школьной средневековой схоластической теософией. Ни Штраус, ни Резан, ни Дарвин, ни Писарев, очевидно, не были знакомы отцу. Он был убежденный христианин православной церкви, не только верующий в бога, но и признающий Иисуса из Назарета сыном Божьим, пострадавшим и воскресшим в третий день по писанию. Во время учительства в Зайцеве, в тетради для записей обративших внимание статей, на поле сделана следующая приписка: «Верую, Господи и исповедую, яко ты еси Христос есть путь истины и живота. Пусть глумятся над сими подобными божественными истинами, а мы должны веровать сердцем и исповедовать устами». Действительно, он и веровал без колебаний. Догматы, сложившиеся на продолжительном пути развития христианства на почве эллинско—восточной теологии и философии, были для него истинами, не вызывающими сомнения. Все «таинства» совершаемые им: крещение, покаяние, причащение и прочие были для него действительными таинствами, поэтому понятна та серьезность, с которой он выполнял их.
Принимая без колебаний учение православной церкви, тем самым отец признавал почитание икон, необходимость соблюдения постов и верил в возможность чудес. Церковный ритуал и почитание икон и были тем моментом, который связывал религиозное воззрение отца с таковым крестьян, его прихожан.
Очутившись в лесной глуши, отец принимал некоторые меры к сохранению своего мировоззрения на том уровне, который дала школа. Он выписывал церковные журналы, между прочим, «Душеполезное чтение» — орган Петербургской Духовной академии, но так как уровень религиозного образования отца был не высок, то он с большой охотой читал популярные церковные журналы, например, «Русского паломника» и «Воскресенье», рассчитанные скорее на пасомых, чем на пастырей. Однако чтение отца носило отрывочный несистематический характер. Поэтому вполне понятно, что ему удалось удержаться на уровне, полученном от школы.
Его воззрение приближалось к воззрениям прихожан. Многолетнее исполнение церковной службы и различных обрядов привело к тому, что его религиозность целиком ушла в эту сторону. Икона, несомненно, была особой святыней, а не просто изображением святого, или какого либо события. Он верил, что через икону таинственными силами может быть оказано то или иное влияние на человека. В этом пункте его воззрение почти полностью приближалось к воззрению прихожан. Говорю «почти», так как полного тождества все-таки не было.
Достаточно вспомнить, как отец рассказывал про одну ямницкую женщину, которая, как-то в зимнюю Николу, с удивлением его спрашивала, почему он пришел с летним, а не с зимним Николаем Угодником. Как известно, праздновались два Николина дня: зимний 6-го декабря по ст. стилю и весной 9-го мая также по ст. стилю. На иконах же изображение Николая Угодника встречалось в двух видах, чаще представляли его как архиепископа в митре, а иногда рисовали, как святителя, с непокрытой головой, кажется, только с евангелием в руках. Старуха и решила, что зимний Николай Угодник — это икона, где святитель представлен в митре («в шапке» — по словам старухи), а на тот раз отец, очевидно, «ходил» с иконой, изображающей Угодника без митры. Это рассказывал отец с легкой иронией.
Не чужд был отец обычных суеверий. У меня от детства сохранилось воспоминание о следующем случае. Дело было поздней осенью, в преддверии зимы, и, по всей вероятности в 1889-м году, первом после смерти Клани, одной из моих сестер, умершей от скарлатины двух с половиной лет. Мы сидели в горнице за, утренним чаем. Еще не совсем рассвело, но ради экономии лампа уже потушена. Чай, как утренний, так и вечерний, был временем, когда отец и мать обсуждали свои дела, делились виденным и слышанным. На это утро мать рассказывает, что ночью она слышала стук в окно переднего угла и как будто бы в верхнее стекло рамы. А окно в переднем углу было довольно высоко над землей, и взрослый человек руками мог достать только до нижних стекол и то, пожалуй, встав на завалинку, поэтому стук приобрел таинственный характер. Мать вполне была уверена в этом, отец не разуверял её. Но казался ли стук особенным и ему самому? Мне же, восьмилетнему мальчику, казалось, что это стучалась прилетевшая с неба душа Клани.
Принимая без колебаний учение православной церкви, тем самым отец признавал почитание икон, необходимость соблюдения постов и верил в возможность чудес. Церковный ритуал и почитание икон и были тем моментом, который связывал религиозное воззрение отца с таковым крестьян, его прихожан.
Очутившись в лесной глуши, отец принимал некоторые меры к сохранению своего мировоззрения на том уровне, который дала школа. Он выписывал церковные журналы, между прочим, «Душеполезное чтение» — орган Петербургской Духовной академии, но так как уровень религиозного образования отца был не высок, то он с большой охотой читал популярные церковные журналы, например, «Русского паломника» и «Воскресенье», рассчитанные скорее на пасомых, чем на пастырей. Однако чтение отца носило отрывочный несистематический характер. Поэтому вполне понятно, что ему удалось удержаться на уровне, полученном от школы.
Его воззрение приближалось к воззрениям прихожан. Многолетнее исполнение церковной службы и различных обрядов привело к тому, что его религиозность целиком ушла в эту сторону. Икона, несомненно, была особой святыней, а не просто изображением святого, или какого либо события. Он верил, что через икону таинственными силами может быть оказано то или иное влияние на человека. В этом пункте его воззрение почти полностью приближалось к воззрению прихожан. Говорю «почти», так как полного тождества все-таки не было.
Достаточно вспомнить, как отец рассказывал про одну ямницкую женщину, которая, как-то в зимнюю Николу, с удивлением его спрашивала, почему он пришел с летним, а не с зимним Николаем Угодником. Как известно, праздновались два Николина дня: зимний 6-го декабря по ст. стилю и весной 9-го мая также по ст. стилю. На иконах же изображение Николая Угодника встречалось в двух видах, чаще представляли его как архиепископа в митре, а иногда рисовали, как святителя, с непокрытой головой, кажется, только с евангелием в руках. Старуха и решила, что зимний Николай Угодник — это икона, где святитель представлен в митре («в шапке» — по словам старухи), а на тот раз отец, очевидно, «ходил» с иконой, изображающей Угодника без митры. Это рассказывал отец с легкой иронией.
Не чужд был отец обычных суеверий. У меня от детства сохранилось воспоминание о следующем случае. Дело было поздней осенью, в преддверии зимы, и, по всей вероятности в 1889-м году, первом после смерти Клани, одной из моих сестер, умершей от скарлатины двух с половиной лет. Мы сидели в горнице за, утренним чаем. Еще не совсем рассвело, но ради экономии лампа уже потушена. Чай, как утренний, так и вечерний, был временем, когда отец и мать обсуждали свои дела, делились виденным и слышанным. На это утро мать рассказывает, что ночью она слышала стук в окно переднего угла и как будто бы в верхнее стекло рамы. А окно в переднем углу было довольно высоко над землей, и взрослый человек руками мог достать только до нижних стекол и то, пожалуй, встав на завалинку, поэтому стук приобрел таинственный характер. Мать вполне была уверена в этом, отец не разуверял её. Но казался ли стук особенным и ему самому? Мне же, восьмилетнему мальчику, казалось, что это стучалась прилетевшая с неба душа Клани.